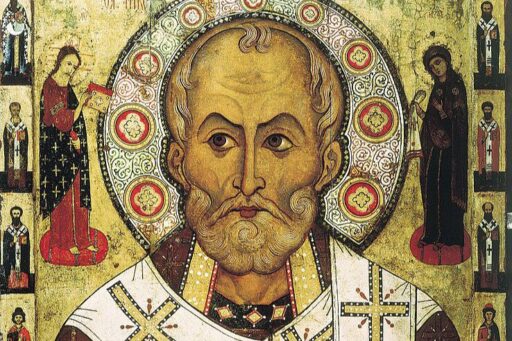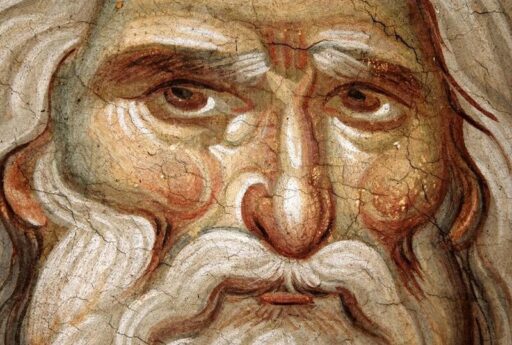В середине Великого поста Церковь предлагает верующим особо обратить сосредоточенное внимание на Крест Господень, орудие нашего спасения. «Так как во время сорокадневного поста и мы некоторым образом распинаемся, умерщвляя страсти, и ощущаем горечь, унывая и изнемогая, то и полагается перед нами Честной и Животворящий Крест как прохлаждающий и укрепляющий нас, напоминающий нам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа и утешающий», – говорится в особом молитвословии Недели Крестопоклонной, синаксаре. В наследии святителя Феофана Затворника есть небольшая трилогия «Три слова о несении креста», включающая наставления тамбовской пастве, в которых разъясняется не только одно из важнейших понятий христианской веры – крест, но и смысл человеческих страданий в земном мире, указывается путь достижения высшего состояния духовной жизни – полного предания себя воле Божией. О каких трех спасительных образах несения креста в нашей жизни говорит святитель?
Слово как жанр духовной риторики позволяет автору свободно выстраивать линию рассуждения, соединяя в нем черты научно-богословского трактата и проповеди. Многие стилистические приемы, используемые святителем в гомилетических трудах и эпистолярных сочинениях, широко применяются им и в «Трех словах о несении креста». Наиболее часто в анализируемых текстах встречаются риторические вопросы и восклицания, которые обычно составляют ряды по принципу градации.
Так, в начале первого слова «Крест внешний» святитель Феофан размышляет над высказыванием апостола Павла, подчеркивая парадоксальность с обыденной, прагматичной точки зрения его суждения о похвалении Крестом Господним: «Как это святой апостол до такого дошел расположения, что ничем хвалиться не хотел, кроме Креста Христова? Крест всяко есть скорбь, теснота, уничижение; как же хвалиться им? Почему же это так?»
Тот же прием применяет автор для демонстрации столь распространенного в миру вопроса о тяжести внешнего креста: «Но зачем, скажешь, у меня больше, а у другого меньше? Зачем меня тяготят беды, а другому во всем почти счастье? Я раздираюсь от скорби, а другой утешается?»
Характерной чертой стиля святителя Феофана является диалогическая форма изложения мысли (риторический вопрос – ответ), которая позволяет активизировать внимание слушателей (читателей). Данный метод используется автором прежде всего для назидания или утешения паствы. Например, выстраивая рассуждение о бедах и трудностях земной жизни, святитель увещевает духовных чад: «Найди, кто ликует всю жизнь? Сами цари нередко не спят ночи от туги сердца. Тебе тяжело теперь, а прежде разве не видел ты отрадных дней? Бог даст, и еще увидишь. Потерпи же!»
А в третьем слове «Крест преданности в волю Божию» святитель Феофан с помощью вопросно-ответных конструкций подает образ Самого Иисуса Христа как пример абсолютной преданности воле Божией: «Кто вознес на Крест Спасителя нашего? Сия преданность. В саду Гефсиманском молился Господь наш Иисус Христос, да мимо идет чаша; но решительное о сем определение изрек так: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты. От слова Его: Аз есмь, – падают пришедшие связать Его. Но потом они же вяжут Его. Почему? Потому что Он Сам Себя прежде связал преданностию воле Божией».
Широкое использование обращений, а также эмоционально и стилистически окрашенной церковнославянской лексики позволяет святителю установить тесный духовный контакт со слушателем (читателем): «Из многого малое сказав вам о внешних крестах, приглашаю вас, братие, в мудрости ходить, искупая время горести и скорбей благодушным, благодарным и покаянным терпением». Для создания образа горнего мира, к которому необходимо стремиться каждой душе, автор прибегает к развернутым метафорам и аллегориям: «Хочешь добра себе – брось утехи, вступи на крестный путь покаяния, перегори в огне самораспинания, закались в слезах сокрушения сердечного, и станешь золото, или серебро, или камение драгое, и в свое время будешь взят Небесным Домовладыкою на украшение Его пресветлых и премирных чертогов». Последние из названных приемов, несомненно, сближают стилистику проповедей и богословских трудов святителя Феофана Затворника одновременно с художественной прозой и публицистикой.
Чертами научного стиля в «Трех словах о несении креста» являются строгая системность и внутренняя логика каждого произведения в отдельности и всей трилогии в целом. Святитель Феофан предваряет слова аннотациями, в которых кратко излагаются ключевые понятия и обозначаются аспекты проблем, раскрываемых в тексте. Вместе с тем для этих преамбул характерна стилистическая эклектичность, что обусловлено расчетом автора на восприятие слушателей и читателей различных возрастов и социальной принадлежности. Богословские выражения и понятия в «Трех словах о несении креста» («значение Креста Господня», «причастник спасительной силы», «борьба со страстьми и похотьми», «сораспятый Христу») соседствуют с разговорно-просторечными («горести и тяготы», «пагуба», «утешная жизнь»). Очевидно, что высокая, книжная лексика используется святителем для выражения духовной цели крестоношения – спасения души, а сниженная, разговорная – для иллюстрации противоположных ей греховных побуждений и земных привязанностей.
Аннотации по сути представляют собой гипертекст, каждое слово которого отсылает нас не только к определенному фрагменту слова, но и – через содержащиеся в этом тексте цитаты – к Священному Писанию и богатейшему святоотеческому наследию. Так, первое слово «Крест внешний» предваряет следующая аннотация: «Объяснение значения Креста Господня и собственного креста каждого. Как каждый из нас становится причастником спасительной силы Креста Христова. Спасение – через крест. Как нести свой крест во спасение. Виды крестов. Почему на земле нет никого без горести и тяготы». В приведенном гипертексте ключевыми понятиями выступают «Крест Господень (Христов)», «собственный (свой) крест», «спасение». Каждое из этих концептуальных понятий повторяется дважды, а их соотношение определяет основную линию рассуждения святителя Феофана.
В творении «Три слова о несении креста» он раскрывает толкование понятия «Крест», начиная свое рассуждение с призыва апостола Павла: «Мне же да не будет хвалитися, токмо о Кресте Господа нашего Иисуса Христа» (Гал. 6. 14). И далее подчеркивает, что богомудрые мужи «зрели в нем (в Кресте) вместо тесноты широту, вместо горести сладость, вместо уничижения величие, вместо бесчестия славу…»
Подобное же пространственно-временное понимание Креста как знамения и символа распространения христианской веры находим и у преподобного Ефрема Сирина: «Крест освятил вселенную; он рассеял тьму и возвратил свет, он потребил заблуждение; он собрал народы от востока и запада, севера и юга, и соединил их любовью в единую Церковь, в единую веру, в единое крещение».
Таким образом, развернутая антитеза в рассуждении святителя Феофана раскрывается в контексте святоотеческого толкования. Так, например, оппозиция «теснота» – «широта» вводит внешнее, пространственное значение в концепт «Крест», переводя наше восприятие от конкретно-понятийного к абстрактно-ассоциативному уровню, на котором «крест» мыслится уже как жизненный путь, образ жизни, способ мировосприятия. И в этом смысле крестоношение понимается святыми отцами как проявление и результат действия в душе страха Господня: «Крест наш состоит в страхе Господнем. Поэтому как распятый не может двигаться, как бы ему хотелось, так и мы свою волю и желания должны направлять не к тому, что нам приятно и что льстит нашим похотям, но по закону Господа, с Которым мы сораспялись» (прп. Иоанн Кассиан Римлянин).
Разъясняя значение Креста и смысл принятия Жертвы Христовой, святитель Феофан вводит ассоциативное понятие «собственный (человеческий) крест» и описывает «механизм» взаимодействия этих двух понятий: «Каждый из нас становится причастным спасительной силы его не иначе, как через свой собственный крест. Свой собственный каждого крест, когда соединяется с Крестом Христовым, силу и действие сего последнего переносит на нас, становится как бы каналом, через который из Креста Христова переливается на нас всякое даяние благо и всяк дар совершен».
Таким образом, святитель Феофан весьма точно и наглядно раскрывает сакральный смысл крестоношения. В соответствии с классификацией, приведенной в первом из трех произведений цикла, автор выделяет три вида крестов: «первый вид – кресты внешние, слагающиеся из скорбей и бед и вообще из горькой участи земного пребывания; второй – кресты внутренние, рождающиеся из борьбы со страстьми и похотьми ради добродетели; третий – кресты духовноблагодатные, возлагаемые совершенной преданностию в волю Божию».
Заголовки трех слов соответствуют названным видам крестов: «Крест внешний», «Крест внутренний», «Крест преданности в волю Божию». Сущность истинного крестоношения заключается в добровольном сужении пространства жизненного пути человека, вплоть до «пригвождения» своей воли к Кресту Господню с целью победы над страстями и пороками.
Святитель Феофан именует «крестом внутренним» именно духовную брань: «Как сия борьба трудна, прискорбна и болезненна, то она есть воистину крест, внутри нас водруженный». И далее автор, утверждая спасительный характер боли, которую испытывает пригвожденный к внутреннему кресту человек, проводит аналогию между страстями, проросшими в душе, и полипом, пустившим корни в теле: «Не вырежешь – не исцелеешь, а стань вырезать – больно. Пусть больно, но сия боль здоровье возвращает. А оставь, не вырезывай – тоже больно будет, только боль сия не к здоровью, а к усилению болезни, может, даже к смерти. Так и борьба со страстями или искоренение их – болезненны, зато спасительны».
Несмотря на трудность и боль, неизбежные при несении внутреннего креста, святитель Феофан подчеркивает: «Свет, покой и радость зарождаются с самого начала вступления в борьбу сию, и все растут и возвышаются, пока в конце не завершатся мирным устроением сердца, в котором почивает Бог». Данное утверждение вполне согласуется со словами Самого Господа нашего Иисуса Христа: «Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 17. 22); «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8. 34); «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11. 29-30). Преображение тяжести крестоношения в «иго благое» и «бремя легкое» происходит по мере очищения сердца от страстей и пороков, когда пространство его расширяется, становясь способным вместить Бога.
Таким образом, в рассуждении святителя Феофана внешнее и внутренне пространство соотносятся посредством образа Креста, который «есть древо жизни. Райское древо жизни осталось в раю; на земле вместо него водружено древо Креста. Цель же и этого одна: вкусит человек и жив будет». Тем самым святитель Феофан Затворник детально раскрывает приведенную выше мысль святителя Иоанна Златоуста.
Обращаясь к третьему слову «Крест преданности в волю Божию», нельзя не вспомнить высказывание преподобного Исаака Сирина: «Есть два способа взойти на крест: один – распятие тела, а другой – восхождение в созерцание. Первый бывает следствием освобождения от страстей, а второй – следствием действительности дел духа». Словно продолжая мысль преподобного Исаака Сирина, автор слова в преамбуле утверждает: «Сораспятый Христу перестал жить сам, но стал жить в нем Христос», а потому на крест преданности воле Божией «восходят уже совершенные христиане». У таких людей весь внешний мир тускнеет и поглощается жизнью духовной. Это состояние святитель Феофан считает лучшим приготовлением к жизни вечной: «Это верх совершенства христианского, до которого только способен достигнуть человек. Он есть предначатие будущего состояния по воскресении, когда Бог будет всяческая во всех (1 Кор. 15. 28)».
Вместе с тем святитель Феофан подчеркивает, что все удостоившиеся достигнуть высоты духовной «нередко состоят в противоречии со всеми порядками земного пребывания и – или терпят гонения и муки, или становятся и почитаются юродивыми, или удаляются в пустыни», поскольку воля Божия «одна качествует и действует в них с отрицанием всяких своеличных усмотрений и действий».
Результатом предания в волю Божию, по святителю Феофану, является двунаправленный процесс: с одной стороны, «погружение в Боге» сораспятой Христу души, а с другой – сокровенное, внутреннее хранение Бога в себе: «…Все совершается внутри, незримо для людей и ведомо только совести и Богу. Внешне тут ничего. Оно есть, конечно, приличная оболочка, но не решительный свидетель и тем менее производитель внутреннего».
Рассуждая о несении креста, святитель именует свою паству «крестоносцами». В данное определение он вкладывает совершенно новый смысл, принципиально отличающийся от привычного всем значения этого слова. Если в традиционном восприятии крестоносец – это средневековый европейский рыцарь, участник крестового похода, изобразивший на одежде крест как символ своей веры, то в контексте творения святителя Феофана это православный христианин, запечатлевший Крест Господень в собственной душе, что вполне согласуется с приведенным выше тезисом о превалировании внутреннего над внешним в духовной жизни.
Подводя итог рассуждению о несении креста, святитель Феофан Затворник предлагает каждому человеку обратить свой мысленный взор к Голгофе как символу страдания и вселенской скорби. Он призывает «примерить к себе» кресты, возвышающиеся на этой горе, чтобы осознанно выбрать путь соединения со Христом. Представленные им архетипы «крестоносцев» являются ярким заключительным аккордом, выражающим авторскую идею.
В соответствии с приведенной ранее классификацией святитель указывает на три образа спасительного крестоношения. Первый из них – Симон Киринейский, несший Крест Господа, – образ принятия внешнего креста. Второй – благоразумный разбойник – символ борьбы со страстями, то есть внутреннего креста. Третий – сам Господь Иисус Христос – символ «мужей совершенных, распявшихся в богопреданности». Четвертый образ – злого разбойника – пример порабощения страстям, которые «мучают, терзают, распинают на смерть, не давая никакой отрады и никакой благой надежды».
Таким образом, в творении святителя Феофана Затворника «Три слова о несении креста» создано системное описание духовного пути человека как добровольного крестоношения, ведущего к осознанию и принятию Великой Жертвы Спасителя. Вершиной этого земного пути является восхождение «на крест преданности в волю Божию» – совершенное состояние пребывания в Боге, при котором внешний мир не способен оказывать определяющее влияние на человека. Именно такое духовное пребывание святитель Феофан называет «предначатием будущего состояния по воскресении».
Е.В. Грудинина,
проректор по научной работе Тамбовской духовной семинарии
Публикация журнала «Тамбовские епархиальные ведомости»
приводится в сокращении